Медальон
Из важного я ни черта не помню. В каком это было году? Сколько мне тогда было лет: одиннадцать, десять, а может, и все двенадцать? Я старательно допытывался у мамы, но расспросы не помогли: загадочный эпизод, перевернувший всю мою жизнь вверх дном, начисто стерся из ее памяти. Зато я с поразительной ясностью припоминаю целую россыпь пустяков — мимолетных, ничего не значащих деталей, почему-то осевших в моей детской голове. Мамино пальто оверсайз, надетое нараспашку. Очки в роговой оправе, которые удивительно шли к ее строгому каштановому каре. Или вот: желтый тополиный листочек, прилепленный ветром к боковому окну. Всю дорогу я поглядывал на него, гадая: отвалится, не отвалится…
Погода тогда выдалась скверная; было серо и пасмурно, солнечный свет едва пробивался сквозь груду тяжелых туч, нависших над набережной. Холодный фронт вместе с дождем принес ранние сумерки, и город стоял притихший и полусонный. Когда мама припарковалась, на задыхающуюся от предчувствия дождя мостовую упали первые капли. А уже в тот момент, когда мы вошли в парадную, за нашими спинами хлынул отвесный ливень — настоящий потоп.
Мама торопила меня, и мы не стали разглядывать дом снаружи. Но теперь, когда я снова стою напротив его парадной и с трепетом всматриваюсь в осевший фасад, мне кажется, за прошедшие годы дом нисколько не изменился. Старый фонд: кирпичная трехэтажка с витражами в высоких окнах и резными дверями из массива ценного дерева. Ветхая аристократичная фифа, в прошлой жизни принадлежавшая какому-то светиле науки, профессору медицины, — не удивлюсь, если самому Филиппу Филипповичу Преображенскому. Меня сразу к ней потянуло.
Внутри — я хорошо это помню — лоснились свежевымытые ступени, слабо пахло побелкой и сушеной лавандой. Но на всех благородно старящихся предметах, на перилах и окнах, лежал слой заскорузлой пыли — сизой, как маслянистая пленка на стылом чае. Консьержка велела нам сразу подниматься на третий этаж, в квартиру номер 13, где нас уже ждут и все готово к осмотру.
Она напоминала бабу-ягу из сборника Афанасьева: из выпуклой родинки на подбородке торчали жесткие волоски. В ее полутемной каморке гостил мужик, уткнувшийся в крошечный телевизор в углу кукольной кухоньки: передавали футбольный матч; сторож или, может быть, дворник с моржовыми усами, как у лешего.
Старуха пожаловалась маме, сколько сил они недавно угрохали, соскребая с витражей четыре слоя масляной краски. «Профессор велел закрасить, чтобы спрятать самую красоту-то от швондеров да чекистов», — басовито прохрипела она, как будто маме было не все равно. Мама лишь покивала, давя вежливую улыбку, а я…
Вы, наверное, удивитесь, что за странный я был ребенок, но мне тогда немедленно захотелось здесь поселиться — среди призраков прошлого и сказочных персонажей.
Поднявшись на третий этаж, мы остановились у окна с видом во двор. Единственное окно в парадной без витража — и единственное же чистое. Оно открывало взгляду соседний степенный дом, заштрихованный почеркушками голых веток, пару ветхозаветных скамеек внизу и далекий намек на реку.
Мама с непроизвольной брезгливостью взглянула на пальцы — минуту назад их подушечки скользнули по пыльному витражу.
Я подергал ее за рукав:
— А можно мы здесь останемся? Я не хочу смотреть другие квартиры.
— Перестань, — вздохнула она. — Мы пока даже эту не посмотрели.
Звонить в квартиру номер 13 полагалось в дверной колокольчик — изящный, с витым растительным узором, плавно оплетающим бронзовый куполок. Вещица иной эпохи — наверное, еще от профессора сохранилась. Но я чем угодно могу поклясться: дверь перед нами распахнулась сама собой — еще до того, как мама успела дернуть отполированную сотнями рук цепочку, приводящую в действие старинный механизм. Скрр — тоненько проскрипели дверные петли.
— Проходите на кухню, располагайтесь, — донесся голос из глубины квартиры. — Обувь только у порога оставьте, у нас паркет.
* * *
Годы спустя — девять, десять, а может, и все одиннадцать? — я вхожу в ту же сумеречную парадную. Меня встречает мигание тусклой лампы. Я касаюсь лакированного перила, провожу по нему ладонью и мажу дымным взглядом вверх по каменной лестнице. Запах пыльной лаванды, словно прустовская мадленка, мгновенно отбрасывает меня в детство.
Кажется, здесь ничего не изменилось с тех пор: то же утробное ворчание телевизора из каморки консьержа, тот же букет сушеной лаванды и ковыля с лилипутскими фонариками физалиса на изящном приставном столике между пролетами. Я проскальзываю как тень мимо дремлющего консьержа — живы ли еще баба-яга и ее закадычный леший? — взбегаю по лестнице и останавливаюсь у единственного окна, лишенного витражей. С рассохшихся рам чешуйками сходит краска, а в трещины забились мертвые паучки. Я веду пальцами по стеклу, прорисовывая дорожку, и с улыбкой гляжу на пальцы: подушечки — все в сизых пушинках пыли. Стряхиваю их и, сосредоточенно, бережно перебирая взглядом предметы, всматриваюсь во двор. Деревья, кажется, подросли — но вряд ли сильнее меня.
Ветки в ошметках желтой листвы качаются, заслоняя обзор. Предвечерний медовый свет струится сквозь них, разбивается об утес соседнего дома и плещет в мое лицо яркими отсветами.
Утром я звонил девушке, которая теперь живет в этом доме, в квартире номер 13, и мы побеседовали недолго — не больше пяти минут. Я думаю о ней, о ее полусонном лилейном голосе, произносившем согласные в конце слов на старинный лад, не смягчая: «Я поставлю консьержа в известность. Поднимайтес прямиком на третий этаж», — и от этих незваных мыслей беспокойный вихрь предчувствия проносится сквозь меня — от пяток и до макушки, — заставляя покрыться зябкой гусиной кожей. Стыдливо ощущаю, как под одеждой вздыбились тонкие волоски.
Я засовываю руку в карман и нащупываю там вещь, которую хранил все эти годы — сам не зная, зачем. Гладкий металл холодит ладонь, рассылая по нервам колючие импульсы; они пробегают по коже, поднимаются выше — в мозг, в бессистемную картотеку моей причудливой памяти, где из хаоса и сумятицы дней извлекают искомый образ. Он встает перед мысленным взором четко и ясно, словно стоп-кадр из фильма: пш-ш!
* * *
— Милости прошу, не стесняйтесь, — хлопотливо бормочет он.
Жовиальный старик с аккуратно подстриженной белой бородкой. Шустрые карие глазки за косо сидящими на носу-картошке очками; идеально лысая голова фасона «бильярдный шар», в рябоватой глади которой играют зайчики от хрустальных светильников. На нем темно-синяя мелкоклеточная рубашка, комический галстук-бабочка в тон, брюки и старомодные подтяжки, почтительно огибающие круглый пивной животик. Тот еще фрукт.
— Выпьемте, может, чаю? — голос по-стариковски подрагивает, но интонации теплые и радушные. — Ребенок, поди, продрог. Такая непогода на улице разыгралась и, знаете, как-то вдруг ни с того ни с сего... Специально для вас достал, с крыжовником, королевское.
Он сунул маме под нос пол-литровую банку с вареньем, крышку которой по старой моде обтягивала вощеная пекарская бумага, перевязанная бечевкой.
— Я такое даже не пробовал, — потянулся я к банке.
Старик перехватил мою куртку и повесил ее на крючок, украшенный тем же стелющимся узором, что и на дверном колокольчике.
— Ну что вы топчетесь у порога, проходите на кухню, заодно и осмотрите. Чаек-то как раз поспел. Да вы не бойтесь, я не кусаюсь — по крайней мере, до шести вечера.
И он разразился громким и раскатистым смехом телевизионного Санта-Клауса: ох-хо-хо-хо!
— Спасибо, не стоит. — Мама поджала губы. — Мы немного торопимся, если честно.
— Да куда ж вы торопитесь по такой-то погоде? Окажите любезность одинокому старику. Угощайтесь, конфеты вот, курабье... Чаю налить тебе, парень?
Банка варенья в его руке сменилась пузатым заварным чайничком, расписанным по бокам незабудками и с крошечным ситечком, что покачивалось и позвякивало на носике.
— Да! — выпалил я и юркнул за стол. — Мам, можно я выпью чая?
— Садитесь, садитесь, я вас надолго не задержу. Ну до чего душистый! Ох, ох, чувствуете, как пахнет? Фантастика! С мелиссой, для горлышка хорошо, от простуды, а нервишки-то как дивно успокаивает, м-м! Кота им от бешенства вылечил — спит теперь сутками напролет, не добудишься. Я бы и сам так дрых, если б меня не будил собственный храп, ох-хо-хо!
— Нет, ну правда не стоит, — смутилась мама.
— Да бросьте вы! Наливаю? Расскажу вам о доме да о квартире, за чаем оно веселее, верно? Ой, какой умница был прошлый хозяин, ой, боже мой, какой умница!
Он церемонно разлил напиток, крепко пахнущий травами и мелиссой. Мама с уважением осмотрела посуду, погладив краешек блюдца, по белоснежной глазури которого бежала ровнехонькая золотая каемка.
— Расскажу вам про эту квартиру, значит... С чего бы начать? А начну с самого начала. Квартира-то не моя — да это вы уже знаете. Я всего лишь скромный сосед, живу тут напротив, в четырнадцатой.
Он небрежно махнул рукой в сторону подъезда.
— Да, — сверкнула очками мама. — Спасибо, что согласились нам показать квартиру. А дочь покойного хозяина где, говорите?
— А у себя в столице: погрязла в рабочей кутерьме, да так и не удосужилась вырваться. Но на подписание контракта обязательно будет, еще и нотариуса прихватит — все честь по чести. Вы конфетками-то угощайтесь: свежие, из киоска.
— Я пас, извините, — отодвинула от себя вазочку мама, а я тем временем уже покопался в разноцветной шуршащей горке и выудил шоколадный батончик «Рот Фронт».
— Линию блюдете? — похлопал себя по пузу старик.
— Вроде того, — пригубила душистый напиток мама. — Вы говорили о прошлом хозяине…
— Да, прошлый хозяин. Жил тут до вас один врач. Как бишь его специализация называлась? Что-то вроде «тополог», но с «матом»... Топологоматом?
— Патологоанатом! — выпалил я, шелестя оберткой и пыжась от гордости: смотрите-ка, догадался.
— Молодец, парень, какие слова уже знаешь! Далеко пойдешь, в университет поступишь! Так вот, был он топологомана…
— Патологоанатом, — повторил я, почти смеясь: ну что за старик-дурачок, слово никак не запомнит!
Старик пригвоздил меня строгим взглядом поверх очков, собрав морщины на лбу в гармошку, что твой учитель.
— По имени-отчеству был он Владислав Генрихович, но все называли его по псевдониму — Граф Дикий. Вы, конечно же, спросите: почему? И я отвечу: литератором был наш доктор, — старик затаил дыхание, — великим русским писателем из подполья! Исключительный ум, талант почище Маркса и Энгельса вместе взятых…
За окном раздалась настойчивая череда гудков автомобильного клаксона.
— Фу, что за бескультурье! Так вот, Владислав Генрихович... Все пьесы сочинял в свободное от трудов ратных время. Знаете, кого он мне в этом напоминал? Писателя Булгакова — тот тоже по первой специальности врач, вел практику в Киеве, это потом уже в театральные деятели подался; вот и наш Владислав Генрихович туда же — и доктор, и драматург. Отличался, правда, некоторым своеобразием нравов, а так очень даже почтенных манер человек, настоящий аристократ духа! Носил по-онегински длинные ногти — помните, как у Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»? — любил шелковые кашне, галстуки дорогие с зажимом; гвоздичка в петлицу — это уж непременно; прогуливался осанисто, помогая себе тростью. Щегольство? Пфф, еще бы! Но с его-то выправкой позволительно: спина безукоризненно прямая, суставы на погоду не крутит — совсем человек ни капельки не старел. А знаете…
Старик широко распахнул ладони, приглашая гостей придвинуться ближе, и склонился к нашим ушам.
— Я думаю, — только не смейтесь, пожалуйста, — он был вампир.
Настырный клаксон снова перебил старика. На улице какой-то мужик заорал, прорезая голосом дождь, смазанные оскорбления. Мама беспокойно заозиралась, поглядывая то на балкон, то на дверь. Как-то пристыженно втянула голову в плечи, выбираясь из-за стола.
— Сынок, посиди тут с дедушкой. Пойду выяснять, что ему так неймется. Только ничего не трогай, — наказала она и скрылась в прихожей.
— О-хо-хо, скажете тоже: дедушка! Я, будет вам известно, пятьдесят раз могу от пола отжаться, на Крещение в прорубь ныряю при минус двадцати градусах — не каждый молодой еще сможет!.. — запыхтел старик вслед.
— Правда вампир, дедушка? Реально? — прошептал я со смесью удивления и восторга.
— Ну а то! Думаешь, я врать тебе стану? Борис Павлович, плут и мошенник, дворник наш... Видел его внизу? — старик приставил пятерню к носу, изобразив у себя на лице пышные усы.
— Усатый такой? — вспомнил я лешего из каморки бабы-яги, прилипшего загипнотизированным взглядом к махонькому телевизору.
— Он самый, — ухмыльнулся старик, зачерпывая из розетки королевского варенья. — Судачил Борис Павлович, будто доктор из больничного холодильника таскает пакеты с кровью, а дома потом мешает «Кровавую Мэри» с кровью и сельдереем. Да только врет он как сивый мерин: колбасу белорусскую с гречкой готовит доктор из крови — наблюдал собственными глазами и даже пробовал.
— А фто такое «Крофафая Мэфи»? — стоило маме выйти за дверь, как я набил рот конфетами до отказа.
— «Кровавая Мэри»? — у старика заиграли озорные морщинки в уголках глаз. — А это такой коктейль для истинных джентльменов, чтобы элегантно его потягивать за партией в вист. Я бы навел тебе, да мама, небось, рассердится: напиток-то алкогольный.
— И ф крофью?
— И с кровью. Но это ежели ты вампир, как Владислав Генрихович, а так-то обычно с томатным соком и беленькой. Очень уважал его доктор.
— Хозяин этой квартиры? — я никак не мог поверить своим ушам.
— Ну а кто же еще?.. Фу ты ну ты, опять курлычут! Набились под козырек и курлычут! — Старик приоткрыл балконную дверь и взмахнул руками. — Кыш! Кыш! Ух я вас!
Я зыркнул из-под его локтя на балкон, пол которого сплошь пестрел размашистыми голубиными кляксами, передернул плечами и снова принялся за конфеты.
— Когда доктор еще был жив, все ему завидовали. Голуби его балкон по широкой дуге облетали, не то что садиться брезговали. У всех гадят — а у него не гадят. Удивительное везение, что ни говори.
Старик залез в сервант, достал оттуда еще конфет, пересыпал все из пакета в вазу и небрежно вытянул оттуда одну.
— А еще Борис Павлович приютил как-то дворнягу. Сначала она выла на луну каждую ночь, а потом перестала. Завод кончился, — беззлобно хихикнул он. — Вскоре нашли ее в мусорном баке без единой капельки крови, будто отжатую насухо. Дворник всех собак вешал на доктора по привычке, но детвора окрестная рассказывает, то какие-то хулиганы буянили.
— Же-е-есть, — только я и промолвил.
Старик выставил перед собой надкушенное печенье, задумчиво разглядывая его и улыбаясь в белую бороду.
— А было дело, зашел в парадную, вижу — Граф наш, сама неотразимость: профиль орлиный, в глазах тоска. Стоит у окна, любуется полумесяцем. Вечер тогда выдался славный: прохладно, облака стелются низко-низко, двор молчаливый, снежный, а над соседним домом сияет наливная зимняя луна. Ну сказка! Потом присмотрелся — кошки-поварешки, а отражения-то и нет! Мое — есть, а графского — нет.
— Как нет?
— Никак нет.
— Разве такое бывает?
— Ну а то! Не веришь? Держи тогда еще одну улику. Пахло от него, скажу тебе, странновато. Как польется своим одеколоном — так приятно, будто в церкви на Пасху: то ли куличом тянет, то ли ладаном — очень вкусно. А вот ежели не польется, тогда запах совсем иной: тревожный какой-то, гадкий, с железистыми оттенками. По ощущениям похоже... вот на этот слюнявый привкус под корнем языка после олимпийской стометровки. Может, оно мне чудилось, нюх-то уж не тот, а все равно подозрительно.
Я дожевал шоколадные батончики и тоже схватил печенье. Звякнуло ситечко: старик гостеприимно подлил мне чаю.
— Как-то раз, — смахнул он с бороды крошки, — подбираю я во дворе вещицу. Медальон с секретиком, в каких нервные барышни прежних времен хранили противообморочные капли. Штука любопытная: филигранно вырезанный узор, чистое золото с виду, хоть и траченное временем, потускневшее. Открываю — а там портрет. Девушка. И какая! В платье с пышными рукавами, по моде пушкинской юности. Полупрофиль, прическа, как у княгини Юсуповой; хрупкая, дивная красота — хоть садись да пиши сонет: «Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...» И локон внутри — шелковистый, цвета лимонного золота, завитой. Такую находку и в ломбард-то сдать совестно, и рука еще не у каждого подымется.
Старик помолчал, любуясь янтарной гладью своего чая, тем, как разбухший обрывок мелиссы медленно кружит в толще воды, не решаясь ни всплыть, ни осесть на дно. Я подул на свой и сделал пару глотков.
— На следующий вечер вижу: доктор наш мечется туда-сюда по двору, все под скамейки заглядывает, роется в жухлой траве. А в лице — ни кровинки! «Что, — спрашиваю, — сосед уважаемый, потеряли? Хотите, вам помогу в розысках ваших срочных?» «Да, — говорит, — кулон один очень важный. Не то чтобы по цене дорогой — медь, покрытая позолотой, — но по сентиментальным соображениям прямо-таки бесценный. Память о дочери», — говорит. А сам бледный как полотно, аж трясется, едва не плачет. Что делать? Ну, я подумал-подумал да и вернул. Не стану же родного соседа обкрадывать, верно? А Граф, бедолага, как просиял: «Ваш честный поступок много для меня значит»! Ой, ну до чего же хороший был человек! Благородный, с понятиями о чести. А ум какой золотой — один на миллион! Больше таких, извиняюсь за грубость, уже не делают.
Старик достал носовой платок и трубно высморкался в него, промочив глаза чистым кружевным кончиком. Потом вдруг оживился, подмигнул мне и расплылся в заговорщической улыбке.
— А хочешь, кое-что покажу? Ну, ну, интересно?
Он поднялся и пошаркал в гостиную, поманив меня узловатым артритным пальцем. Комната встретила нас скрипом рассохшихся половиц и застоявшимся воздухом с запахом нафталина и советских духов наподобие «Красной Москвы». Недолго повозившись среди ящичков допотопного секретера, старик торжественно крякнул и преподнес мне круглый медальон на цепочке, вложив его прямо в мою ладошку. Позлащенное украшение сдержанно поблескивало в меланхолическом свете сумерек, едва пробивавшемся сквозь потоки дождя на улице и тяжелые вертикальные веки портьер, сонно смеженные на высоких окнах.
Я повертел его так и сяк. С лицевой стороны красовался резной рисунок в виде переплетенных диковинных лилий, с изнаночной — затертая гравировка с надписью на латыни Ad futuram memoriam.
— Вау, вот это зачетная тема, — выдохнул я.
— Изумительная, — согласился он, и уголки его губ дернулись вверх.
Он кивком указал на софу, обитую переливчатым жаккардом, а сам устроился рядом в таком же помпезном кресле, разве что слегка сильнее протертом.
— А потом лишился работы доктор, — продолжил старик. — Проводили его на пенсию. Настоятельно проводили: «Если сам не уйдешь, — грозились, — так рассчитаем по собственному желанию, и никакой тебе премии». Борис Павлович все грешил, будто поймали его на воровстве крови: то ли пакеты таскал с работы из холодильника, то ли сливал у свежих жмуров в свою жестяную флягу... Любит Борис Павлович наплести. Э-эх, расстроился Граф, что с работы его турнули, — сразу сдал в бодрости, приболел. И без того худющий и малокровный, совершенно призрачным сделался, аж светится в темноте…
— Можно его открыть? — я попытался поддеть ногтем защелку на медальоне.
— С другой стороны. Видишь, там вставлен камушек? Нажми туда пальчиком осторожно.
— Круть! — восхитился я, когда крышечка отошла и явила моему взору миниатюрную фотографию, вставленную в нижнюю створку металлического футляра.
Старик щелкнул выключателем, и над моим плечом загорелась лампа. Я поднес раскрытый кулон к торшеру, сунул под пыльный шелковый абажур — и перестал дышать: мягкие черты лица, загадочная полуулыбка, нос с небольшой горбинкой и огромные глаза лани. Наверное, синие, со слезой — черно-белое фото позволяло только гадать об их цвете, но я был уверен, что эти прекрасные очи — синие.
* * *
Отчетливо помню свою первую мысль в ту минуту: мне казалось, я за всю жизнь не видел никого красивее этой девушки. Этой девушки на портрете.
Я вызываю в памяти чувства, обуревавшие меня в то мгновение. Что это было? Любовь с первого взгляда? Романтическое влечение, опалившее мою подростковую грудь, подобно извергшемуся вулкану? Нет, вовсе нет. То была нежность — всепоглощающая, сладкая, хмельная и тягучая нежность, затекающая под веки, наполняющая меня от пят до макушки томительной обреченностью, мерцающая прямо в моей груди — там, где у меня сердце, — вкрадчивым рубиновым переливом, словно молодое вино в хрустальном бокале, взятое на просвет…
О, до чего поэтично! Ну не дурак ли я?
Вспоминаю утренний голос в своем смартфоне — тихий, как шелест страниц девичьих дневников, и спросонья чуть-чуть медлительный, не смягчающий гласные в конце слов. «Неужели это она? — задаюсь я вздорным вопросом. — Неужели я наконец-то с ней встречусь, спустя столько лет? Разве такое вообще возможно?»
Я запускаю пятерню в свои кудри и грубо ерошу их — с ожесточением и неожиданной яростью, пытаясь вытряхнуть из головы эту безумную, безумную мысль.
* * *
— Ну что, слушаешь дальше?
— Конечно, — едва выговорил я, не в силах отвести взгляд от портрета.
— Совсем, вижу, доктор уже плохой. Бледный и тощий весь, полупрозрачный, как папиросная бумага: через него вполне можно было читать чертежи. Круги под глазами — темнее прежнего. Кашляет в свой кружевной платок, будто чахоточник, да жамкает его тут же в руке, чтобы никто не заметил выхарканную кровь. По ночам из его квартиры — все шорохи да шипение. Что происходит? Кот застрял в простенке и там скребется? Вроде нет; вот же, пожалуйста: кот гуляет. Ох, парень, в то роковое утро... А с вечера еще у меня было дурное предчувствие. Знаешь, как ведь оно бывает: душа словно не вполне совпадает с телом, в животе холодеет, и сны снятся потные, с сердцебиением — ух!.. Выхожу я в то роковое утро купить газету, как вижу — дверь у соседа чуточку приоткрыта. И тишина. Постучался — нет никакой реакции. «Извините, можно войти?» — на цыпочках прокрадываюсь в квартиру, а там…
Дзын-н-нь! Величавые напольные куранты в углу оглушительно звякнули. Я содрогнулся всем телом, едва не выронив медальон. Старик схватился за сердце.
— Вот черти, — проворчал он. — Так и до инфаркта довести недолго. Давненько не проверял их.
Он подошел, завел механизм, поправил гирьки, и ходики снова затикали — деловито, чуть сипло — видимо, решили еще пожить.
— Так вот, — кашлянул старик, возвращаясь в потертое кресло, — Граф наш Дикий, его сиятельство. Захожу я в его квартиру, иду сюда, прямо вот в эту комнату, и вижу — лежит на полу, не двигается, а от него в коридор тянется белая лента. Присмотрелся — а это лента туалетной бумаги, и тянется она аккурат... куда бы ты думал? В уборную! Что за дела?! Похлопал доктора по щекам — а он-то уже холодный, окоченел; синю-ю-ющий, как цыпленок из морозилки! Не подает признаков жизни: ни пульса, ни дыхания — ничего. Приезжали врачи, милиция; констатировали смерть в четыре утра, но без следов насилия. Ну чертовщина! Ерундистика полная! Мы с бабой Инной, консьержкой, ходили в морг на опознание. Дочка покойного тоже приехала из столицы. Рассказывала баба Инна маме про морг?
— Не-а, — почесал я висок, догадавшись, что речь идет о бабе-яге внизу.
— Ничего не говорила про морг? Ну ладно.
— А как она выглядела? — провел я пальцем по ободку раскрытого корпуса — тусклой позолоченной раме, заключающей в себе прелестный портрет.
— Кто? Баба Инна? — удивился старик.
— Дочка, — пролепетал я.
— Нравится, что ли? — усмехнулся старик.
Меня обожгло смущением.
— Мне тоже нравится, братец... Но видел ее, можно считать, лишь мельком. Дочка-то вся в отца: пугливая, нелюдимая. На похоронах в черном пальто, под черной вуалью и с черным зонтиком — хоронили в пасмурный день, как сегодня примерно: льет и сплошные тучи. «Геннадий Ильич, — говорит, — не могли бы вы по старой дружбе помочь с квартирой, я собираюсь ее сдавать?» А голосок-то дрожит, срывается! Бедная убитая горем девочка. И Граф, представляешь, в гробу лежит себе как живой — разве что бледноват слегка, хотя он и при жизни особым румянцем не отличался. Того и гляди очнется, как будто просто прилег вздремнуть: «Еще пять минут — и встаю заваривать себе кофе». Ой, ну какой был умничка! Такая потеря, господи!
Я слушал, боясь моргнуть. Воздух в комнате казался густым, как засахаренный сироп, — спертым и сладковатым, тревожным. «Лепкий», — называла подобный воздух моя покойная бабушка. Воздух, из которого Эдгар По когда-то лепил свои макабрические рассказы.
Вдруг — движение за спиной, я поймал его краем зрения. Шевельнулась портьера, взметнулась с краю. Я испуганно обернулся — и прямо на меня выпрыгнул черный кот: «Вя-я-яу!» Гладкий, с блестящей шерстью и тонкими лапами, с огромными светящимися глазами: два ярко-желтых фонарика, пересеченных тонкой змеиной нитью зрачка.
— Ах ты ж разбойник! — рассмеялся старик, подхватывая кота. — Опять на подоконнике дрых весь день? Зачем пугаешь ребенка? Ну?.. Хозяйский любимец, — пояснил он, гладя выгибающуюся черную спину. — Вы насчет него не волнуйтесь, этот бандюга уже у меня живет, усыновил его сразу после кончины Графа. Усыновил тебя, а, негодяй? Усыновил такого хорошего? C утра, видно, прошмыгнул вместе со мной в квартиру, когда я заходил графские фикусы поливать... Рассказывай: охотился на мышей? Вон, когти какие острые!
Он почесал кота под шеей, и тот, блаженно щурясь, затарахтел, свился у него на коленях калачиком. Старик вытер о брючину налипшую на руку шерсть и добавил уже вполголоса:
— Скучает по нему, бедолага, совсем исхудал: даже рыбу уже не жрет. Тоскует, все норовит улизнуть от меня, а как улизнет — так усаживается перед дверью в его квартиру, тянется лапами к ручке и громко рыдает в голос: «Мау-мау-мау-мау!» Но днем куда-то сбегает, шарится по углам — охотится, верно: мышей-то у нас всегда вдосталь, лезут из подвала и лезут. Ну что с тобой делать, а, златоглазый? Не хочешь жить у меня, не хочешь?
Я украдкой заглянул в медальон, пока он сюсюкал с животным. И тогда, и потом — всякий раз, когда я возвращался к портрету, — время для меня застывало, и красавица с фотографии казалась мне смутно знакомой, словно когда-то я уже ее видел — может быть, в прошлой жизни? Видел, как она проплыла мимо меня в пышном газовом платье, оставив за собой влекущий, головокружительный аромат лилий и обещания чего-то невыразимого, сладостного до боли, чему я тогда даже не знал названия.
* * *
Девушка, живущая в несуществующем мире моего разгоряченного мальчишеского воображения. В крошечном потаенном мирке, надежно спрятанном ото всех в золоченой скорлупке графского медальона.
Я открываю его сейчас, стоя в пролете между вторым и третьим этажом благородно увядающего дома. Медовый закат льется из единственного окна, лишенного витражей, купая портрет в мучительной ласке своих лучей. Я смотрю на прекрасную девушку на портрете — в ее предположительно синие очи — в ее немигающие, застывшие в глянце фотобумаги бестрепетные глаза — и, издав неприлично громкий и долгий вздох, с щелчком захлопываю холодные створки.
* * *
А потом вернулась мама. Мокрая, сердитая, с волос капает на пол.
— Все нервы вымотал, — услышал я ее голос в прихожей. — Не в том месте припарковалась, загородила ему проезд. Зачем же так кричать, скажите на милость?..
Помню, увидев докторского кота, она умиленно присела и протянула руку:
— Кыс-кыс-кыс... Ну здравствуй, красавчик. Или ты девочка?
Кот на нее ощерился, свирепо встопорщив хвост, шмыгнул в коридор и исчез в глубине квартиры.
Мама растерянно обернулась:
— Ты чего это, киса?
— Дичится новых людей, — виновато развел руками старик, — почему-то особенно женщин. Парфюмерия, знаете ли, — хмыкнул он, — раздражающие аккорды в составе ваших духов. Вот если бы вы пахли валерианой или, скажем, сочной кровянкой — совсем по-другому бы реагировал, ох-хо-хо!
Мама натянуто улыбнулась, больше из вежливости:
— Можно посмотреть остальные комнаты?
У старика затекла нога, пока мы сидели в гостиной, и он, разминая бедро и прихрамывая, повел нас через длинный коридор с поблекшими обоями. Показывал обстоятельно — каждую трещину, каждую антикварную вазу и этажерочку, комментировал подробно, с экскурсами в историю — ну точь-в-точь влюбленный в свои экспонаты смотритель музея.
— Здесь у него кабинет, то бишь лаборатория, тут он держал коллекцию минералов, а это — ванная, отреставрированная по всем санитарным нормам. Плитка из мрамора, между прочим!
Мама лишь кисло кивала, беспокойно поглядывая в телефон, а я шагал следом, развесив уши и беззаботно раскачивая на цепочке позлащенное украшение.
Не помню, как оно оказалось потом у меня, при каких обстоятельствах и зачем я его украл. Впрочем, разве украл? Разве был у меня такой умысел? Разве не по досадной рассеянности я прихватил медальон с собой?.. Не знаю. Помню лишь смутное ощущение: холодный металл коснулся моей ноги с изнанки штанов, через тонкую ткань кармана.
— Единственно, зеркал нигде нет: доктор их презирал по личным соображениям. Но если вам очень нужно, я свое принесу, повешу.
— Как же он брился?
— Загадка. Видать, на ощупь приноровился…
— В целом, квартира просторная, — резюмировала мама, когда мы вернулись на кухню, — но какая-то... гнетущая.
— Зато с историей, — поправил очки старик. — Да и по цене предложение редкостно авантажное.
— Это-то да... Просто мы еще о просмотрах на вечер договорились.
Старик единым махом сгреб в раковину чашки с остывшим чаем; накрыл курабье салфеткой. Подмигнул мне и по-мушиному потер руки.
— Ну что, интересно знать, чем закончилась история доктора?
— Нам правда уже пора, — простонала мама, но я перебил:
— Хочу!
Старик усмехнулся, словно только этого он и ждал.
— Врожденная непереносимость серебра, — торжественно произнес он и для пущей убедительности задрал палец вверх. — Редчайшая иммунная реакция, знаете ли, стремительная, вплоть до летального исхода.
Мама недоуменно подняла брови.
— Аллергия на серебро?
— Да-да! — закивал он с жаром. — Гиперсекс... сен... как бишь ее, заразу?.. сенсибилизация! Четвертого типа, с парадоксально быстрым течением. В морге сказали: «острый иммунный металл-индус... индусцырованный ответ». Может, я, конечно, и переврал. Из цензурных слов в речи врача были только «вследствие» и «голубчик».
Он хохотнул, просил подождать и исчез за дверью уборной. Оттуда послышались шуршание и возня.
— Дедушка что, немного с приветом? — покрутила у виска мама.
— Не знаю, нормальный вроде, — попытался я защитить неугомонного старика.
— Ладно, сейчас по-быстрому заедем на N., там обе квартиры рядом, а потом сразу домой.
— Нет, мам, не хочу я больше никуда ездить! Мне нравится здесь, и дедушка адекватный. Ну пожалуйста! Ну пожалуйста! — бурно запротестовал я, из приличия давя в себе громкость звука.
— Прекрати, ради бога, и без тебя башка раскалывается, — схватилась она за переносицу.
Старик вернулся до крайности возбужденный, вертя картонную упаковку в руках.
— Вот, гляньте-ка! — едва не нанизал он коробку мне на нос. — Туалетная бумага-то у него была не обычная, а с подвохом. Видите надпись: «+Ag»? С наночастицами серебра была она, значит. А я ведь ему говорил, чтоб поменьше этих нанотехнологий в быту! Так что умер он прогрессивно, по современным стандартам!
Старик расхохотался, протирая глаза от слез под съехавшими очками. Потом он вдруг замолчал, ткнул пальцем в букашек мелкого шрифта и всхлипнул срывающимся шепотом:
— Трагическая случайность, вот что это такое. Доктор ведь занедужил, когда его выпроводили с работы, сам по немощи прибираться уже не мог, вот баба Инна и вызвала ему клининг. А клининг-то — чтоб ему провалиться! — и подсунул Владиславу Генриховичу проклятую бумагу. Вы же знаете, что вампиры боятся серебра как черт ладана? Индусцырованный ответ у вампиров на... ой, не могу, простите!
Он прыснул в ладонь, прижимая ее ко рту, силясь затолкнуть смех обратно в осипшее горло, из которого он так и рвался.
Мама отшатнулась от старика. Нахмурилась, больно сжав мою руку:
— Пойдем отсюда, сынок.
Она не глядя сорвала мою куртку с крючка, и мы торопливо сбежали вниз.
Ливень что было мочи колошматил по карнизам и крышам, воздух пах гниющими листьями и бензином. Мама шагала к машине быстро — у нас впереди еще маячило два осмотра, — но я, миновав скамейку, не выдержал, оглянулся. Дом высился статный и глянцевый от дождя, посмурневший, будто обиженный на нас с мамой. В окне квартиры номер 13 мелькнула тень. Я моргнул — и ничего уже не было, лишь размеренно покачивалась тяжелая занавеска.
В спину донесся надсадный окрик с балкона. Старик перегнулся через перильце и помахал: «Да вы не переживайте, у нас теперь все спокойно!»
* * *
Годы спустя — девять, десять, а может, и все одиннадцать? — я стою перед дверью графской квартиры. Нагрудный карман моего плаща оверсайз оттягивает смартфон; я открываю в браузере сайт с объявлением: «Сдается трехкомнатная на набережной, старый фонд, вид на реку», — вздыхаю и прячу смартфон обратно.
Те же эмалированные цифры 1 и 3 в мелких царапинах, тот же витиеватый узор на дверном колокольчике.
Дверь открывается, прежде чем я успеваю дернуть цепочку. В мое раскрасневшееся лицо веет лилиями и нежностью.
— Простите, я вас смутила? У меня досаждающе чуткий слух: услыхала ваши шаги на лестнице и кинулас отворять.
Я застываю как истукан. В хрустальном свете старинных ламп стоит молодая женщина — тонкая, почти девочка. На вид больше девятнадцати ей не дашь. Млечное кружево платья с декадентски пышными рюшами. Волосы цвета лимонного золота, небрежными волнами разбросанные по плечам. И лицо... лицо этой девушки. Мне не нужно подсматривать в черно-белый портрет, чтобы мгновенно узнать ее пленительные черты — те, которые я миллион раз оживлял в одинокой темноте своей подростковой спальни.
В кармане я стискиваю вещицу, бережно, пуще зеницы ока хранимую все эти бог знает сколько лет. Пальцы касаются резного рисунка, узнавая его, читая на ощупь каждую черточку как литеру тайного языка; трепетно осязают защелку-камушек... Кулон с потайным отделением — с моим нежным и опьяняющим детским секретом, с блаженным дьявольским наваждением, с призрачной и бестелесной мечтой, навеки похитившей мой покой, которая сегодня, о боже, стала явной и осязаемой.
— Синие, — шепчу я, придурочно улыбаясь.
Они сияют, удивленно всматриваясь в меня, и я таю, таю и расплываюсь в них — в огромных бестрепетных глазах лани.
Едва поборов сковавший меня паралич, я протягиваю красавице сжатый кулак и медленно, одним за другим, разжимаю дрожащие пальцы — точно страшась, что вверяемая ей тайна вспорхнет и улетит золотым жуком.
— Я полагаю... Нет, я уверен!.. Я абсолютно уверен, что этот предмет принадлежал вашему папе.

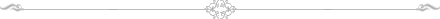
 Каталог всех статей
Каталог всех статей DW-модуль «Черные-черные злые козлы»
DW-модуль «Черные-черные злые козлы»

 Клановые вампиры каноничны либо близки к канону. Рекомендуем неопытным игрокам начинать с более простых ролей.
Клановые вампиры каноничны либо близки к канону. Рекомендуем неопытным игрокам начинать с более простых ролей.
 Если вы создаете персонажа-вампира, который не состоит в клане, это означает, что кто-то из предков вашего героя был кайтифом и разорвал связь между кланом и своми потомками. Описывать это не обязательно: вас могли исключить из клана много поколений назад.
Если вы создаете персонажа-вампира, который не состоит в клане, это означает, что кто-то из предков вашего героя был кайтифом и разорвал связь между кланом и своми потомками. Описывать это не обязательно: вас могли исключить из клана много поколений назад.
 Уважаемые игроки, просим вас ознакомиться с
Уважаемые игроки, просим вас ознакомиться с 










































